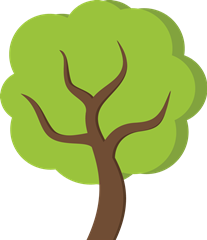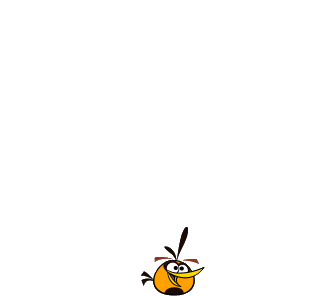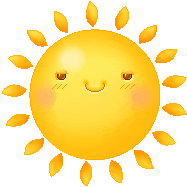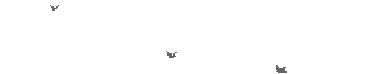Красный Берег
В путеводителе деревня Красный Берег представлена, как одна из достопримечательностей Гомельской земли, входящая в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины».
 «Детям, прошедшим фашистский ад». Эти слова встречают посетителей перед входом в мемориал. Здесь среди огромного яблоневого сада заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ленинской премии Леонид Левин создал «Площадь солнца» — комплекс-памятник, посвященный детям — жертвам Великой Отечественной войны.
«Детям, прошедшим фашистский ад». Эти слова встречают посетителей перед входом в мемориал. Здесь среди огромного яблоневого сада заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ленинской премии Леонид Левин создал «Площадь солнца» — комплекс-памятник, посвященный детям — жертвам Великой Отечественной войны.
Каждая деталь комплекса по-своему символична. Мемориал задумывался, как развернутая в пространстве панорама, как путь, трагичность которого можно осознать, только пройдя по одному из лучей Города Солнца. Это единственный черный луч, выделяющийся на фоне золотистой площадки. И всех на этом пути встречает тоненькая фигура девочки — опаленного войной беззащитного ребенка, лицо которого перекошено от боли и беспомощности. Поднятыми над головой руками девочка словно защищается от всех страхов войны. Она стоит на камешках красного цвета, символизирующих кровь детей.

Ступеньки полукруглой лестницы ведут в страшные годы войны.

Под открытым небом стоит 21 школьная каменная парта и одна классная доска. Белые парты и черная доска.


На доске текст письма белорусской девочки Кати Сусаниной, которое она написала отцу из немецкой неволи:
«Дорогой папенька! Пишу тебе письмо с немецкой каторги. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых уже не будет. Моя просьба к тебе, отец, покарай немецких кровопивцев. Это завещание твоей умирающей дочери. Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи, ее расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил ее плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала, вот ее последние слова: » Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж вернется и вышвырнет вас, подлых захватчиков, вон». И офицер выстрелил маме в рот. Дорогой папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет. Если бы сейчас встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькой. Мои глаза впали, косички мне остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идет кровь. Мне отбили легкие. А помнишь, папа, два года тому назад мне исполнилось 13, какие хорошие были именины. Ты мне тогда сказал: » Расти, доченька, на радость большой». Играл патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню. А теперь, когда я взгляну на себя в зеркало, — платье рваное, номер, как у преступника, сама худая, как скелет, и соленые слезы в глазах. Что толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят, затравленные голодными овчарками. Я работаю рабыней у немца Ширлина, работаю прачкой, стираю белье, мою полы. Работы много, а кушать два раза в день, в корыте с Розой и Кларой. Так хозяйка зовет свиней. Так приказал барон. «Русы были и есть свиньи». Я боюсь Клары, это большая жадная свинья. Она мне один раз чуть палец не откусила, когда я доставала из корыта картошку. Живу в сарае. В комнаты мне входить нельзя. Один раз горничная полька Юзефа дала мне кусочек хлеба. Хозяйка увидела и долго била Юзефу плеткой по голове и спине. Два раза я убегала. Меня находил их дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Когда теряла сознание, на меня выливали ведро воды и бросали в подвал. Новость. Сказала Юзефа. Хозяева уезжают в Германию с большой партией невольников и берут меня с собой. Я не поеду в эту трижды проклятую Германию. Я решила, что лучше умереть в родной сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Я не хочу больше мучиться рабыней у проклятых жестоких немцев, не дававших мне жить. Завещаю, папа, отомстить за маму и за меня. Прощай, добрый папенька. Ухожу умирать. Твоя дочь Катя Сусанина. Мое сердце верит — письмо дойдет. 12 марта 1943 года…»
Идея увековечить письмо на школьной доске «детской Хатыни» принадлежит писателю Василю Быкову.
С обратной стороны классной доски, на обороте прощального письма Кати Сусаниной, карта Беларуси. На ней обозначены места, где находились детские лагеря медленной смерти, где у детей отнимали кровь.

Ребятишек, попадавших в концлагерь в деревне Красный Берег, после бани загоняли в зал, где они ожидали своей очереди. В двух комнатах была оборудована лаборатория. Ребенка сажали на стул, а ручонку просовывали в отверстие в перегородке, где выкачивали детскую кровь до последней капли. Умерших ребятишек потом увозили и сжигали на огромном костре в форме свастики.
Дети прибывали не только из Гомельской области, а и с Могилёвской области, часть с Минской области, с Украины, Прибалтики, Смоленска, Брянской области. Детей собирали фашисты там, где была война. И брали в основном кровь именно у славянских детей, в период от 8 до 14 лет, то есть в период, когда идёт самое активное гормональное развитие — самая чистая кровь.
Во время сортировки некоторые малыши даже хотели попасть в донорский концлагерь. Были наслышаны, что здесь немцы не бьют, моют чуть ли не каждый день, а на обед дают сладкое. Умирать было не больно — обескровленные дети просто засыпали. Навсегда. Тем, кто еще подавал признаки жизни, немецкие врачи из гуманности обмазывали губы ядом.
Здесь оккупанты держали около 2000 детей. Преимущественно девочек от 8 до 14 лет. 1-я группа крови и положительный резус-фактор чаще всего встречались именно у них. Доброжелательные тети в белых халатах регулярно приходили и уводили ребят группами. Клали на столы под наклоном и просовывали худенькие ручки в отверстия в стене. Кровь забирали полностью, а тела сжигали.
Также здесь, в Красном Береге, был апробирован новый — «научный» — метод забора крови. Детей подвешивали под мышки, сжимали грудь. Для того чтобы кровь не сворачивалась, делали специальный укол. Кожа на ступнях отрезалась — или в них делались глубокие надрезы. Вся кровь стекала в герметичные ванночки. Тела ребятишек увозили и сжигали.
Говорят, что нынешние дети жестокие, что они не способны сопереживать. Просто взрослые должны дать им возможность прочувствовать все ужасы, которые скрываются под словом «война».
Дальше виднеется детский «бумажный» кораблик с двумя парусами… Такие кораблики все в детстве делали из тетрадных страниц и пускали в плавание по весенним ручьям. Этот приплыл в свою последнюю гавань под названием Красный Берег. Это — напоминание о тысячах детей, весна которых была убита в 1943 году. На белых парусах имена, отлитые в металле: Марина, Настя, Зоя, Вера, Аркаша, Тема, Арина, Петя, Оля, Олежка, Сима, Витя… Эти имена взяты из лагерных документов.


Никогда уже эти ребята не отправят свои корабли в плавание по жизни. Жизнь у них была отнята. Белые паруса остались позади, а нам открывается мир детской мечты — 25 белых «мольбертов», 25 разноцветных детских рисунков, переведенных в витражи.

Это рисунки детей Минского дворца пионеров, выполненные в1946 году. Солнечный послевоенный мир сбереженных от смерти детей. Один из витражей, «Строящийся Минск», выполнен по рисунку автора проекта мемориала «Красный Берег» Леонида Левина. В тот год ему исполнилось 11 лет.
И хотя мемориал окружен красивым яблоневым садом, здесь достаточно жутковатое место, в котором чувствуешь себя очень дурно. Причина — очень удачно подобранная композиция для выражения той непоправимой боли, которую доставила война тысячам детских жизней.
Хатынь
Когда-то давно земли нашей родины стали ужасающим полем боя в противостоянии с немецкими захватчиками. Сейчас же её территория – настоящий музей памяти. Каждый уголок хранит отголоски Великой войны и память о погибших героях.

Одним из таких мест в Беларуси является Хатынь – трагическое напоминание об ужасах прошлого. В годы Великой Отечественной войны это была всего лишь одна из многочисленных деревень, куда вторглись фашистские солдаты. В наши дни на её руинах был образован мемориальный комплекс «Хатынь», который рассказывает о печальной судьбе жителей деревни.
История трагедии
Повествование о роковой судьбе Хатыни начинается в 1943 году. Одним мартовским днём белорусские партизаны из отряда «Дяди Васи» решили остановиться на ночлег в лесах на окраине деревни Хатынь. На утро они отправились в путь, когда на встречу им выехал автомобиль немецких оккупантов. Гитлеровцы следовали к месту поломки линии связи и не подозревали о притаившихся в лесу солдатах. Тогда-то партизаны и открыли огонь по врагу.
В ходе перестрелки погибли несколько фашистов, а также капитан подразделения полиции Ганс Вёльке. На оккупированных территориях полицейские отряды под его командованием формировались в основном из военнопленных и местных жителей, которые добровольно решили служить немецким захватчикам. Среди белорусов за ними укрепилось известное всем название «полицаи».
Партизаны скрылись в лесу, а выжившие в сражении гитлеровцы вызвали подкрепление. Они крайне обозлились гибелью капитана Вёльке, который не только был чемпионом Олимпийских игр в метании ядра, но и личным знакомым Гитлера. Когда подоспевшие на помощь каратели прочёсывали местность в поисках стрелков, они по ошибке расстреляли 26 человек из близлежащей деревни Козыри, которые всего лишь собирали в лесу дрова. По свежим следам немцы и вышли на скрывшуюся за деревьями Хатынь. Она была объявлена главным штабом партизанского движения и окружена батальоном «Диверлингер», где служили свирепые головорезы. Его отряды участвовали в многочисленных кровопролитных операциях. На их счету убийство по меньшей мере 120 тысяч мирных жителей Беларуси.
Всё мирное население деревни обвинили в пособничестве диверсантам. Возможно, всё разрешилось бы иначе, если бы положение не усугубила смерть капитана Ганса Вёльке, который был высокопоставленным офицером и глубоко ценился в верхах. Когда весть о его гибели дошла до главного немецкого штаба, будущее деревни и её народа было предрешено.
Приказ о ликвидации поступил от майора полиции Эриха Кёрнера. Отряд карателей, по большей части, состоял из советских солдат и военнопленных, переметнувшихся на сторону гитлеровцев, чтобы спасти свою судьбу. И вершить судьбы своих земляков. Действовали они под командованием бывшего советского офицера Красной Армии Григория Васюры.
Полицаи согнали всех жителей деревни в сарай, заперли ворота и подожгли. Первой принялась пылать соломенная крыша сарая, затем огонь распространялся и дальше. Испуганные люди пытались выбраться из горящей ловушки, но отряды карателей безжалостно расстреливали всех, кому удавалось сбежать. В сарае заживо сгорели 149 человек, 75 из которых были детьми.

Выжить удалось лишь немногим. В их числе были две девушки Юлия Климович и Мария Фёдорович, которые чудом выбрались из огня и доползли до соседней деревни. Однако от этого их участь кажется ещё печальнее, ведь и эту деревню позже спалили эсэсовцы.
Благодаря прикрывшим телам матерей также уцелели пятеро детей – Володя Яскевич, Соня, Саша и Виктор Желобковичи, а также двенадцатилетний Антон Барановский, который был ранен в ногу случайной пулей. Дети пролежали под трупами, дождавшись пока фашисты не уйдут. Спасли и выходили малышей жители других деревень, после чего они воспитывались в детском доме.
Единственный мужчина, который выжил в пылающем сарае, — кузнец Иосиф Каминский. Во время пожара он потерял сознание и пришёл в себя только глубокой ночью, когда отряды эсэсовцев уже покинули деревню. Он был сильно изранен и получил множество ожогов, но они были незначительны по сравнению с душевной утратой. Ведь среди погибших соседей и знакомых он увидел своего сына Адама, который был смертельно ранен от языков пламени и пули в живот. Он так и скончался на руках у отца. Трагедия кузнеца и его сына послужила прообразом для знаменитого памятника в центре мемориального комплекса.
Возмездие над теми, кто сжёг Хатынь, настигло их, пусть и в разные периоды времени. Некоторые были уничтожены отрядами партизан, другие пытались скрываться, но всё же были обнаружены и поплатились за свершённые убийства земляков в Хатыни. Некоторые не только пережили войну, но и получили звания ветеранов Великой Отечественной, участвовали в жизни городов и деревень, ходили на парады и даже вознаграждались медалями. Однако следственные органы выявили практически всех карателей, предали суду и расстреляли за преступление против человечества и собственной родины. Единицам же удалось сбежать за границу и скрыться от советских спецслужб под личностями других людей.
Григорий Васюра, который командовал отрядом душегубов и был одним из тех, кто спалил Хатынь, лично убил более 350 белорусов: мужчин, женщин, детей. Военный трибунал признал его виновным и приговорил к казни через расстрел.
Мемориальный комплекс «Хатынь»
В 1969 году на «руинах» Хатыни был основан мемориальный комплекс, ставший мрачным символом всех сожжённых деревень Беларуси. Это не только воздаяние скорби, но также стойкости, мужества и силы белорусского народа.
К комплексу ведёт пятикилометровая дорога, окружённая лесами. Мраморные монолиты словно отсчитывают каждый её километр. Сам архитектурно-исторический ансамбль расположился на площади в 50 га.
В самом центре возвышается памятник «Непокорённому человеку», изображающий выжившего старика со своим погибшим сыном на руках. Стоит он в окружении гранитных плит, символично воссоздающих крышу пылающего сарая. Тут же братская могила из белого мрамора, на которой высечены слова – своего рода обращение к тем, кто погиб.

К памятнику ведёт бывшая улица деревни – ныне широкая аллея с железобетонными плитами. 26 пепельных фундаментов представляют собой дома жителей, над каждым высится печная труба, а также таблички с именами тех, кто здесь когда-то жил. Каждый дом Хатыни венчается колоколом, звенящим каждые 30 секунд вместе с соседскими. Перед каждым из домов установлена калитка, как знак гостеприимства.
185 могил символизируют 185 сожжённых фашистами деревень Беларуси. Каждая деревня выполнена в виде пепелища с очагом пламени в самом центре и с урной, в которой хранится земля, привезённая из каждой деревни. Каждая могила «Кладбища деревень» имеет название и район месторасположения деревни.

Также одним из ключевых элементов мемориального комплекса «Хатынь» являются «древа жизни», на которых в алфавитном порядке расположились 433 названия деревень Беларуси, которые были уничтожены в ходе Великой Отечественной войны, но позже восстановлены.

«Стена памяти» — мемориал из гранитных плит, хранящих сведения о 260 лагерях смерти и местах геноцида белорусского народа.

В память о каждом четвёртом погибшем жителе Беларуси установлен постамент из трёх берёз, а вместо четвёртой горит «Вечный огонь».

В 2004 году в музее была проведена реконструкция.
Озаричи
Олицетворением скорби, страдания, боли и слез белорусского и русского народов назвал в свое время классик Якуб Колас концлагерь Озаричи.

Впервые мир услышал об этом местечке 14 февраля 1946 года, когда на Нюрнбергском процессе помощник главного обвинителя от Советского Союза, госсоветник юстиции Лев Смирнов представил суду документы, свидетельствующие о злодеяниях фашистов на белорусской земле. Один из них гласил:
«19 марта 1944 года наступающие части Красной армии в районе местечка Озаричи Полесской области Белорусской ССР обнаружили на переднем крае обороны немецкой армии три концентрационных лагеря, в которых находились свыше 33 тысяч детей, нетрудоспособных женщин и стариков…»
Другие документы доказывали преднамеренное использование нацистами против гражданского населения бактериологического оружия. Стариков, женщин и детей преднамеренно заражали сыпным тифом.
Живой щит
В начале 1944-го линия фронта проходила на территории Беларуси вдоль рек Днепр и Березина. В конце февраля гражданское население в тыловой полосе фронта 9-й армии вермахта — стариков, женщин и детей — фашисты загнали в болото. В отчетах командира 56-го танкового корпуса Фридриха Хоссбаха сохранился приказ командующего 9-й немецкой армией от 8 марта 1944 года «О саботажничестве», в котором указана задача: создать живой заслон для защиты военных объектов от нападения войск Красной армии.
В начале весны 1944 года в Полесском лесничестве приземлился немецкий самолет, на борту которого находились нацистские врачи-микробиологи во главе с профессором Блюменталем. Фашисты умышленно заразили женщин, стариков и детей сыпным тифом, чтобы впоследствии распространить заражение среди бойцов и офицеров Красной армии.
Для усиления инфекции в лагерь было доставлено 7 тысяч больных сыпным тифом человек. Блюменталь говорил: «Стакан выпитой воды, каждый кубический метр вдыхаемого воздуха должен заражать каждого человека».
В конце февраля — начале марта 1944-го оккупанты под видом эвакуации из оперативной зоны стали сгонять, свозить к специально отведенным местам в районе Озаричи — Подосинник — Дерть нетрудоспособное население из Гомельской, Могилевской областей Беларуси, Смоленской, Брянской и Орловской областей России.
9 марта 1944-го на совещании в Бобруйске начальник штаба 9-й армии Штедтке и начальник штаба тыла 9-й армии Боденштайн огласили подлежащий немедленному исполнению приказ по депортации населения в концлагерь Озаричи и (по окончании операции) — его уничтожению.

Освобождение
Командование 65-й армии генерал-лейтенанта Павла Батова узнало от разведки, что на переднем крае немецкой обороны созданы концлагеря, прикрывающие 15-километровую зону между Паричами и Озаричами. Захваченные «языки» говорили, что есть приказ в случае советского наступления уничтожить их узников минометным огнем. 18 марта 1944 года советские парламентеры вручили немцам ультиматум о немедленном отводе войск, гарантировав в течение 24 часов их беспрепятственный отход. Концлагеря должны были остаться в нейтральной зоне.
В ночь с 18 на 19 марта 1944 года в них вошли советские войска. Действовать приходилось в сложнейшей обстановке. Людей выводили по проходам в минных полях, а обездоленных выносили на носилках. Всего из «Озаричских лагерей» было выведено 33 480 человек: 15 960 детей в возрасте до 13 лет, 13 072 женщины и 4 448 стариков. По разным данным, в лагерях погибли от 7 тыс. до 20 тыс. человек. Для оказания помощи узникам было организовано 25 полевых госпиталей, более 3 тыс. солдат и офицеров помогали выводить людей из лагерей.
Несостоявшаяся эпидемия
Как свидетельствует хранящийся в архиве военно-медицинского музея Минобороны России список лиц, лежавших в военно-полевом госпитале № 2199 (располагался в деревне Новоселки Домановичского района), там прошли лечение более двух тысяч человек, заразившихся сыпным тифом.
В одном списке среди 720 человек тифозных больных оказалось более 150 солдат и офицеров Красной армии, принимавших активное участие в спасении узников концлагеря Озаричи.
Эпидемия коснулась 19-го корпуса 65-й армии, непосредственно участвовавшего в освобождении людей. Корпус был снят с фронта и отправлен на карантин. Это, впрочем, никак не отразилось на фронтовых событиях: Красная армия продолжала наступление.
Шталаг-352
Концлагерь Waldlager Stalag 352 (Шталаг-352) близ деревеньки Масюковщина на окраине Минска занял место бывшего военного городка. Когда-то здесь стояли деревянные казармы, конюшни и водонапорная башня, работали клуб, автомастерская и тир. Деревенские стягивались за работой в городок, который жил своей жизнью, пока не пришла война.
Перевалочную базу для советских военнопленных, которых отправляли в лагеря Германии, второпях создали в июле 1941 года: в шталаге оказались советские сержанты и рядовые из переполненных лагерей в других локациях страны. Позже сюда прибывали узники из разных уголков советско-германского фронта.
Шталаг включал городской лагерь в бывших Пушкинских казармах по Логойскому тракту и Лесной, около Масюковщины, — место содержания узников, сплошь засеянное расстрельными местами. Городок выбрали неслучайно.

Территорию шталага окружали сторожевые посты и ДОТы (долговременные огневые точки) с пулеметными установками; по углам стояли вышки с прожекторами; со всех сторон лагерь окружала двухметровая ограда из двойной сети укрепленной на столбах колючей проволоки. Широкая дорогая прямо за воротами делила лагерь военнопленных надвое: западная часть была занята узниками, восточная — караульными командами и немногочисленной администрацией.
Людей делили по национальному признаку — территорию разбили на отдельные зоны, оградив каждую непроходимой колючей проволокой. С первых дней существования лагерь был переполнен: скученность была такой, что спать приходилось на одном боку, а повернуться на другой удавалось лишь сообща.
Узникам не позволяли покидать бараки с наступлением темноты. Увидев свет в полуразваленных строениях, лагерная полиция тут же открывала прицельную стрельбу по окнам.
Провинившихся держали в холодных помещениях каменных бараков-изоляторов или карцере: на 3-5 дней людей запирали в крохотных камерах-клетках с цементным полом; роль крыши выполняла натянутая на высоте в 130 сантиметров колючая проволока, которая, конечно, не спасала от снега и дождя; стоять или лежать в карцере было невозможно. Заключенным в карцер редко удавалось дожить до возвращения в барак.
Питание в лагере определяла Хозяйственная инспекция при командующем вермахтом в Остланде: предписывалось использовать в лагерях продукты низшего качества — технические масла, остатки переработки, мясные отбросы. Хлеб был с опилками и соломой. Поступал он, по докладу санитарного врача, сплошь пораженный плесенью. Дизентерия буквально косила людей.
Узники запомнили: суп был настолько жидким, что не требовал ложки. Посудой служили банки от противогазов, цинки из-под патронов, а если не было куда, еду пленным наливали в шапки и даже в ладони.
Госпиталь, занимавший каменное здание в три этажа и семь деревянных бараков, обслуживали пленные русские врачи и медсестры. И здесь ежедневно умирало более полусотни человек. Только за восемь месяцев с октября 1941 года по август 1942-го, по сохранившимся документальным данным, преимущественно от истощения здесь погибло около 10 тысяч человек.
Каждое утро санитарная группа лагеря собирала в бараках трупы пленников, грузила на двуколку и, впрягшись в нее, под конвоем отвозила в карьер в маленькой деревне Глинищи — по другую сторону некогда пролегавшей здесь железной дороги. С весны 1944 года расстрелянных сжигали. Бывшие узники вспоминают, как под конвоем извлекали из земли ранее захороненные трупы убитых на полигоне, обливали нефтепродуктами и поджигали. Черные тучи дыма с резким запахом разносились по всем окрестностям, долетая до лагеря и деревни.
Обыденным делом в шталаге считались публичные порка и избиение, расстрелы и повешения. Применялись изощренные и мучительные виды казни — в центре лагеря на площадке была установлена виселица с тремя металлическими крюками, на которые пленных вешали прямо за подбородок. По рассказам бывших пленников, порой немцы развлекали себя «стрельбой по движущейся мишени» — узникам, проходившим по территории, или тем, кто толпился возле ям с кухонными отходами.
В лагерях формировали рабочие команды, назначали старшину и отправляли пленных трудиться в мастерских, на заготовке леса и железной дороге. Некоторых водили в Минск: каждый день истощенные голодом и болезнями узники преодолевали 15-километровые переходы; после каторжного дня их часто заставляли тащить на себе в лагерь кирпичи, камни и доски. Ослабевших ждала смерть.
За три года существования лагеря здесь погибли около 80 тысяч советских военнопленных.
«Старожилы утверждают, что землю над расстрелянными укатывали танком, — в лагере была мастерская по ремонту танков, — но и после этого земля еще долго шевелилась», — рассказал краевед Олег Усачев.
Безжалостные массовые расстрелы вблизи Лесного лагеря не обошли стороной и мирных жителей: в своих воспоминаниях бывший пленный Г. Дрынкин упоминал, что 7 ноября 1941 за бараком возле лагеря было расстреляно около 14 тысяч гражданских.
Шталаг-352 просуществовал в Масюковщине почти три года: с июля 1941 года до июня 1944-го. А в июле, сразу после освобождения Минска, местные бараки стали наполняться пленными немцами и их союзниками: на этом самом месте был создан лагерь НКВД БССР №168. После отправки домой немецких пленных военный городок снова заняли воинские части. Когда сносили старые здания и строили новые, в котлованах еще долго находили человеческие останки.
Сегодня территория военного городка не отмечена памятной табличкой; она начала застраиваться еще в 1955 году: тогда на улице Лынькова стали возводить малоэтажное жилье для семей военнослужащих. По словам Олега Усачева, сейчас там сохранилось только одно довоенное здание офицерского общежития (а во время функционирования лагеря — лазарета) на улице Лынькова.

Сегодня о страшных событиях, развернувшихся в военное время на одной из столичных окраин, напоминает мемориал, возведенный на месте массового захоронения в 1964 году. Число братских могил с почти 200 уменьшили до 60, установив на каждой из них безымянные надгробия. Пояснительная надпись гласит: «Тут у 1941-44 гг. нямецка-фашысцкiмi захопнiкамi растраляна и замучана 80 000 ваеннапалонных Савецкай Армii i мiрных грамадзян».

В ротонде мемориала раньше лежала настоящая Книга памяти, но потом ее заменили каменным муляжом — слишком часто ротонду разбивали
Имена всех погибших в лагере пленников по-прежнему неизвестны. В октябре 1944-го списки с фамилиями узников обнаружили во время раскопок вблизи госпиталя в спрятанных русскими медиками металлических ящиках. В последующем эти почти 10 тысяч имен внесли в Книгу памяти. Для хранения одного из экземпляров в центре массовых захоронений возвели ротонду.
Детский спецлагерь Скобровка
С мая по июль 1944 года в Пуховичском районе действовал уникальный объект оккупантов, который населяли белорусские дети — в том числе из столичного региона.
В конце мая оккупационные власти изъяли из семей около 2 000 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Причем сделали это под предлогом заботы: мол, советская власть в условиях войны истощила мобилизационный резерв — и уже призывает в Красную Армию 14-летних! А детей от 8 до 13 лет попросту заставляют работать, рыть окопы и так далее. Гитлеровцы, прикрываясь такой немудрящей хитростью, «обещали сохранить детей и учить их грамоте». Неизвестно, поверили родители в такие объяснения или нет, но искомое число ребят было взято из семей Полесской области (в январе 1956 года область упразднена, а территории переданы Гомельщине, Минщине и Могилевщине). На детей повесили бирки с указанием имени, фамилии, года рождения, адреса проживания. Также в других областях оккупированной БССР тысячи кандидатов на переселение в «детские лагеря» были взяты на учет. То есть вскоре сеть подобных учреждений должна была появиться по всей стране: немцы — народ основательный, если что-то планируют, то идут к цели педантично!
Наступление Красной Армии лета 1944-го, вышвырнувшее фашистов из республики, поставило крест на далеко идущих планах врага — и по следам двух тысяч детей с юга Беларуси новые жертвы «орднунга» не пошли…
Как же произошло заселение специализированного поселения в Скобровке? Как был устроен его быт?
По показаниям железнодорожных рабочих станции Пуховичи в 20-х числах мая прибыло три эшелона — 51 вагон с детьми. Двери были закрыты и укреплены проволокой — к 27 мая подневольных путешественников направили в Скобровку. Там собрали до 1 800 человек: около 150 детей постарше отобрали и вскоре увезли в неизвестном направлении.
Центр села — 57 домов — отвели под поселение, частью потеснив, частично отселив местных жителей. На окраине разместилась воинская часть вермахта. «Детское село» имело четко обозначенные границы: поперек улиц построили двойные стены, пустоты между ними засыпали землей. Там имелись бойницы, вдоль увитых колючей проволокой стен патрулировала вооруженная охрана из пособников нацистов. Внутри периметра в домах разместилась детвора — девочки отдельно, мальчики отдельно. Никаких особых удобств не было: каждый дом населяли по 20 — 36 ребят, спали на деревянных нарах. Некое подобие удобства создавали выданные немцами одеяла и собственная одежда.
Персонал лагеря состоял из немца-коменданта, «начальника юношеского поселения» — власовца в капитанском чине, вожатых (один на 30 ребят), врача, агронома, кладовщика и нескольких кухонных работников. Местных жителей в обслугу детской деревни не взяли — оккупанты подготовили ее из коллаборационистов на специальных курсах. Кормили ребят слабо — выдавали на кухне по 200 грамм хлеба, эрзац-кофе из желудей, щавель, изредка — мясной суп. Недоедание вызвало смертность от тифа и кори, дети были худыми и изнуренными. Режим, успевший просуществовать всего месяц, был прост: в 7:00 подъем, построение, затем посадка капусты и прополка огородов. Потом обед, снова построение и работа. Затем ужин, пение песен хором — и убытие по домам.
К чему оккупантам было организовывать подобное поселение?
По свидетельству оккупантов тяжелые болезни и ранения в рейхе и полевых госпиталях армии лечили переливанием крови. Мол, немцы не переносят сыпного тифа, а молодая кровь восточных славян имеет противотифозный иммунитет. Лагерь представлял собой импровизированный центр насильного забора крови.
В лагере действовала следующая практика: каждый день врачи отбирали по 5-8 здоровых детей, вечером их увозили неизвестно куда, и в лагерь они больше не возвращались. Часть детей погибала сразу, а выдержавших донацию в лагерь не возвращали— так злодейство сохранялось втайне.
Дисциплину в Скобровке поддерживали жестоко — дадим слово автору документа: наказания — избиение, садили в «одиночку», заставляли прыгать по-лягушачьи. Кто прыгал неправильно, того поднимали за ноги и голову и бросали спиной на землю. Среди детей царил страх. Они боялись что-либо сказать о лагере.
С 1 июля 1944-го, после начала Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», «Детское село Скобровка» было распущенно — у оккупантов не было времени на его эвакуацию или уничтожение. Сотни детей разбрелись по окрестностям, были взяты в семьи местных жителей, многие пешком и на попутках отправились в свои родные места.